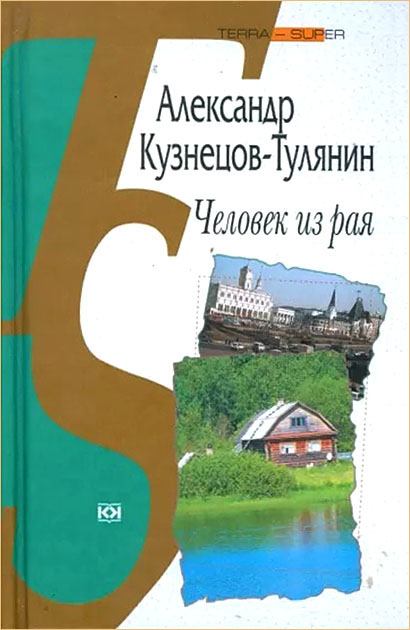но и не мешал, молча сидел на корме. Сеть сильно дергалась в руках: потревоженная ночная рыба, сотни центнеров рыбы, тесно ходившей кругами в садке, билась в стенки, но Бессонов уже выпускал изрезанную сеть, подтягивал еще и опять резал, и рыба, почуяв свободу, прорехи, увлекаемая прорвавшимися вожаками, стала стекать в море. Бессонов будто ощутил это ее свободное истечение в глубину, на волю, выпустил сеть, сел на банке и какое-то время не шевелился, опустив плечи, и будто слушал движение воды вокруг и движение воздуха.
– Заводи, пойдем на второй… – сказал он.
На втором неводе все повторилось.
А когда они вернулись, протрезвевшие, молчаливо-мрачные, увидели, что народу прибавилось на тоне: пришел второй кунгас с тятинским звеном. Все были пьяны и тяжелы, но шума в застолье не было, молчали, так что все звуки задавливал треск костра, заваленный свежими ветками кедрового стланика. Бессонов, подходя, видел, выхватывал фигуры: Витёк рядом с Удодовым, и Удодов, участливо склонившийся к нему; с другой стороны блестела лысина Миши Наюмова; и видел затылок Свеженцева, покатые, по-мальчишески тонкие плечи его, видел, как тот повернулся, заулыбался и начал вставать. А Валеры не было за столом – он валялся у полыхавшего костра, навзничь, раскинув широко руки. И еще Бессонов увидел: Таня на секунду показалась в дверях, постояла и опять скрылась в бараке.
Бессонов сунул руку в карман, нащупал нож. Подошел и молча сел напротив Витька, который налег локтями на стол и опустил глаза, и Бессонов в этой его тяжести вдруг почувствовал не угрозу и не трусость, а нечто другое, что бывает, наверное, смешано со стыдом: неловкость? Ему самому все происходящее показалось нелепым, идиотским. Он налил в две кружки понемногу спирта, одну придвинул Витьку, другую взял сам и сказал намеренно грубым голосом:
– Ничего с этим не поделаешь. Да, глупо… Но ничего не поделаешь… И я тебе вот что скажу… Может быть только два варианта. Первый: ты все перевариваешь и не дергаешься. Второй: вот он, я, весь перед тобой… Третьего не будет… Ты это должен понять, Витя. Третьего не будет.
Он выпил. Но Витёк пить не стал. Тогда Бессонов повторил:
– Третьего не будет.
Витёк поднял на него глаза:
– Не разговаривай со мной, Андреич…
Бессонов кивнул и чуть отвернулся от него, сел к нему почти боком, достал сигарету, стал разминать, а потом прикуривал, склонив голову так, что все лицо его, чуть сморщившееся, прищурившееся от дыма, было видно в огоньке спички. И он увидел самым краем зрения, что к столу подошел Жора и сказал тихо, но деловито, как о чем-то рутинном:
– Витёк, ты мне на минуту нужен, у меня дело к тебе есть. – И было это самым удачным за весь день. Так Бессонов и подумал: это что-то нужное… Витёк поднялся, вяло пошел с Жорой от барака, и тот дружелюбно чуть касался рукой его плеча.
А Бессонова взял за локоть сидевший рядом уже пьяненький Свеженцев и слегка сдавил.
– Андреич…
– Ну что «Андреич»? Что?.. – Он стряхнул руку Свеженцева, засопел, заблестел глазами, но тут же как-то обмяк, понурился: – Андреич, Андреич. Налей лучше… Что ж я могу поделать? Так получилось. Ты же знаешь… Так получилось.
Он выпил, чем-то закусил и налил себе еще, на этот раз почти полную кружку. И вновь заметил Таню: она стояла на прежнем месте, за дверным проемом, в потемках жилья. Ему было видно только мерцание ее глаз и светлое пятно какой-то одежды на ней. Он взял кружку и, уже не глядя в ее сторону, выпил до дна.
Все, что видел потом, стало оборванным, издерганным. То перед глазами ревел огонь, и он смотрел в его середку, а то вдруг увидел себя на берегу, далеко от избушки. И был он босиком, шел по песку и камням, иногда ступая в навалы гниющих водорослей, и тогда под ногами хлюпало. А на нем, за плечами, обхватив его шею руками, а пояс – ногами, сидела Таня и шептала в ухо что-то горячее. А он шел, шатался, смеялся, потому что ему становилось щекотно в ухе. Но он словно опомнился, расцепил душившие шею руки, стряхнул женщину, она охнула за спиной, а он повернулся к ней, поднял, обхватил, притиснул к себе и стал говорить ей, чувствуя жгучесть в себе, жестокость и будто желание стиснуть, раздавить ее:
– А ты мразь, мразь… – Он стал целовать ее в губы, но тоже с жестокостью, с болью, с дикостью какой-то, своими губами и зубами вдавливаясь в нее и руками, жесткими пальцами втискиваясь ей в ребра так, что она застонала, напряглась, прогнулась, но не вырвалась. А он неожиданно отпустил ее, отпихнул и побрел от нее прочь. Она же поплелась следом и шла где-то сзади и то ли смеялась пьяно, бесстыдно, то ли хныкала отчаянно – он не хотел понимать.
Опять пространство захлопнулось и открылось в другом месте, он вновь сидел у костра, у кромки пламени, обжигающего лицо, но не отворачивался, терпел и говорил кому-то, кто лежал рядом с костром:
– Что ты знаешь об огне?.. Живой огонь, святой огонь… Древние с их первозданной чистотой видели в огне врата… – Он стал тормошить лежащего за ногу. – Ну что ты можешь знать? – Но вдруг замер, глядя в раскаленную сердцевину огня. Со злой ехидцей сказал: – Что, мяса хочешь?.. А вот тебе! – выставил в сторону костра фигу и засмеялся.
Огонь тоже отодвигался от него, проваливался в тьму, свертывался в пятнышко, и он уже шел где-то, и не было никакого пламени, а только далеко впереди светилось что-то, и он не мог узнать что. Он долго и упорно брел на свечение, рассуждая о чем-то, казавшемся важным и сложным. При этом тащил на плече длинный тяжеленный обрывок каната, который подобрал у воды. Плыло все, струилось вокруг него. А зачем понадобился ему старый разлохмаченный канат, он не знал, но не бросал его и с упорством медленно продвигался туда, где светилось, что было все-таки светом прогоревшего костра, кучей золы, сияющей красно-черной рябью, словно просачивалось свечение сквозь поры земли снизу. Но там, кажется, уже ничто и никто не шевелились. И как потухло все, как стихло, он уже не видел, не знал, погрузившись на дно океанского желоба, где давление – тысяча атмосфер, все неподвижно, темно и стыло, где, наверное, и есть ад для всех морских тварей, их неприкаянных душонок.
* * *
Сначала был неразборчивый шум, а потом голос, далекий, глухой, как в подушку произнесенный, томительный и, кажется, щемяще-плаксивый, стал проползать в сознание:
– …Нет, не нашел… Не знаю где… Ушел… Я не знаю… Ушел…
И еще голос, другой, ближе, в самое ухо:
– Встань же… Встань, черт тебя…
Бессонов посмотрел разомкнувшимися глазами на свет, увидел широкую беспокойную полосу воды, вертикально стоящую перед взором. Вода стала шуметь: он увидел прибой перед собой, а сам лежал на боку. И он стал подниматься, выправляя кособокость мира, и, вставая, чувствовал вливающуюся в него, в голову, в сознание, муку похмелья… Человек рядом – не тот, который беспамятно валялся по ту сторону остывшего кострища, а тот, который сидел возле него на корточках, с лицом усатым и щетинистым до самых глаз, больших, миндалевидных, с лицом темным, продавленным глубокими черными складками от усов и носа, – обрел черты Жоры. Бессонов уселся, озираясь: песок, море, сырое белесое кострище, Жора.
– Что же вы, сукины вы дети… – сказал Жора тихо и как-то жутковато, голосом выдувая из души Бессонова слабые проблески похмельной иронии. – За-ачем?! – он как-то протянул, сдвоил, неистово, как выговаривает заика, выговорил это «за-ачем». Он поднялся с корточек и пошел куда-то сутуло, не оборачиваясь.
– Что? – произнес Бессонов. Холодком заломило грудь. – Что?.. – Стал подниматься. Но в глазах потемнело, он остановился, наклонился вперед, чтобы голова вновь наполнилась светом. Опять распрямился. – Что? – почти крикнул и завороженно побрел за сутулой спиной Жоры.
За бараком в осоке было вытоптано до песка, и там спиной к стене лежала Таня, нагая, маленькая, свернувшаяся калачиком. Коленки ее были подтянуты к самому лицу, ко лбу, волосы разметались, спутались с темной гущей, и лица поэтому не было видно. Но по телу ее, по ее неподвижности, по плечу, по руке, по бедру, заползая туда,